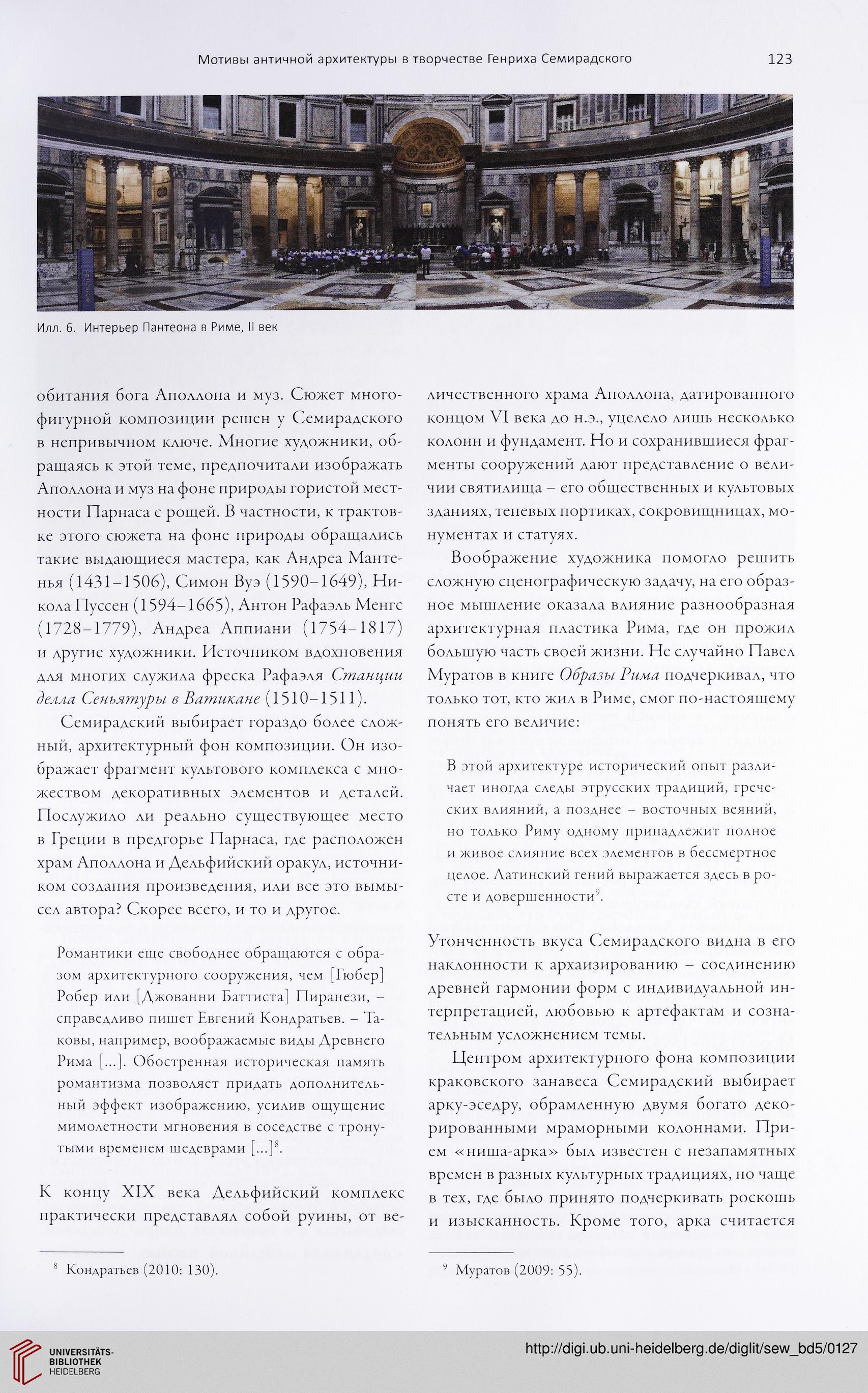Мотивы античной архитектуры в творчестве Генриха Семирадского
123
Илл. 6. Интерьер Пантеона в Риме, II век
обитания бога Аполлона и муз. Сюжет много-
фигурной композиции решен у Семирадского
в непривычном ключе. Многие художники, об-
ращаясь к этой теме, предпочитали изображать
Аполлона и муз на фоне природы гористой мест-
ности Парнаса с рощей. В частности, к трактов-
ке этого сюжета на фоне природы обращались
такие выдающиеся мастера, как Андреа Манте-
нья (1431-1506), Симон Вуэ (1590-1649), Ни-
кола Пуссен (1594-1665), Антон Рафаэль Менге
(1728-1779), Андреа Аппиани (1754-1817)
и другие художники. Источником вдохновения
для многих служила фреска Рафаэля Станции
делла Сенъятуры в Ватикане (1510-1511).
Семирадский выбирает гораздо более слож-
ный, архитектурный фон композиции. Он изо-
бражает фрагмент культового комплекса с мно-
жеством декоративных элементов и деталей.
Послужило ли реально существующее место
в Греции в предгорье Парнаса, где расположен
храм Аполлона и Дельфийский оракул, источни-
ком создания произведения, или все это вымы-
сел автора? Скорее всего, и то и другое.
Романтики еще свободнее обращаются с обра-
зом архитектурного сооружения, чем [Гюбер]
Робер или [Джованни Баттиста] Пиранези, -
справедливо пишет Евгений Кондратьев. - Та-
ковы, например, воображаемые виды Древнего
Рима [...]. Обостренная историческая память
романтизма позволяет придать дополнитель-
ный эффект изображению, усилив ощущение
мимолетности мгновения в соседстве с трону-
тыми временем шедеврами [...]8.
К концу XIX века Дельфийский комплекс
практически представлял собой руины, от ве-
личественного храма Аполлона, датированного
концом VI века до н.э., уцелело лишь несколько
колонн и фундамент. Но и сохранившиеся фраг-
менты сооружений дают представление о вели-
чии святилища - его общественных и культовых
зданиях, теневых портиках, сокровищницах, мо-
нументах и статуях.
Воображение художника помогло решить
сложную сценографическую задачу, на его образ-
ное мышление оказала влияние разнообразная
архитектурная пластика Рима, где он прожил
большую часть своей жизни. Не случайно Павел
Муратов в книге Образы Рима подчеркивал, что
только тот, кто жил в Риме, смог по-настоящему
понять его величие:
В этой архитектуре исторический опыт разли-
чает иногда следы этрусских традиций, грече-
ских влияний, а позднее - восточных веяний,
но только Риму одному принадлежит полное
и живое слияние всех элементов в бессмертное
целое. Латинский гений выражается здесь в ро-
сте и довершенности9.
Утонченность вкуса Семирадского видна в его
наклонности к архаизированию - соединению
древней гармонии форм с индивидуальной ин-
терпретацией, любовью к артефактам и созна-
тельным усложнением темы.
Центром архитектурного фона композиции
краковского занавеса Семирадский выбирает
арку-эседру, обрамленную двумя богато деко-
рированными мраморными колоннами. При-
ем «ниша-арка» был известен с незапамятных
времен в разных культурных традициях, но чаще
в тех, где было принято подчеркивать роскошь
и изысканность. Кроме того, арка считается
Кондратьев (2010: 130).
9 Муратов (2009: 55).
123
Илл. 6. Интерьер Пантеона в Риме, II век
обитания бога Аполлона и муз. Сюжет много-
фигурной композиции решен у Семирадского
в непривычном ключе. Многие художники, об-
ращаясь к этой теме, предпочитали изображать
Аполлона и муз на фоне природы гористой мест-
ности Парнаса с рощей. В частности, к трактов-
ке этого сюжета на фоне природы обращались
такие выдающиеся мастера, как Андреа Манте-
нья (1431-1506), Симон Вуэ (1590-1649), Ни-
кола Пуссен (1594-1665), Антон Рафаэль Менге
(1728-1779), Андреа Аппиани (1754-1817)
и другие художники. Источником вдохновения
для многих служила фреска Рафаэля Станции
делла Сенъятуры в Ватикане (1510-1511).
Семирадский выбирает гораздо более слож-
ный, архитектурный фон композиции. Он изо-
бражает фрагмент культового комплекса с мно-
жеством декоративных элементов и деталей.
Послужило ли реально существующее место
в Греции в предгорье Парнаса, где расположен
храм Аполлона и Дельфийский оракул, источни-
ком создания произведения, или все это вымы-
сел автора? Скорее всего, и то и другое.
Романтики еще свободнее обращаются с обра-
зом архитектурного сооружения, чем [Гюбер]
Робер или [Джованни Баттиста] Пиранези, -
справедливо пишет Евгений Кондратьев. - Та-
ковы, например, воображаемые виды Древнего
Рима [...]. Обостренная историческая память
романтизма позволяет придать дополнитель-
ный эффект изображению, усилив ощущение
мимолетности мгновения в соседстве с трону-
тыми временем шедеврами [...]8.
К концу XIX века Дельфийский комплекс
практически представлял собой руины, от ве-
личественного храма Аполлона, датированного
концом VI века до н.э., уцелело лишь несколько
колонн и фундамент. Но и сохранившиеся фраг-
менты сооружений дают представление о вели-
чии святилища - его общественных и культовых
зданиях, теневых портиках, сокровищницах, мо-
нументах и статуях.
Воображение художника помогло решить
сложную сценографическую задачу, на его образ-
ное мышление оказала влияние разнообразная
архитектурная пластика Рима, где он прожил
большую часть своей жизни. Не случайно Павел
Муратов в книге Образы Рима подчеркивал, что
только тот, кто жил в Риме, смог по-настоящему
понять его величие:
В этой архитектуре исторический опыт разли-
чает иногда следы этрусских традиций, грече-
ских влияний, а позднее - восточных веяний,
но только Риму одному принадлежит полное
и живое слияние всех элементов в бессмертное
целое. Латинский гений выражается здесь в ро-
сте и довершенности9.
Утонченность вкуса Семирадского видна в его
наклонности к архаизированию - соединению
древней гармонии форм с индивидуальной ин-
терпретацией, любовью к артефактам и созна-
тельным усложнением темы.
Центром архитектурного фона композиции
краковского занавеса Семирадский выбирает
арку-эседру, обрамленную двумя богато деко-
рированными мраморными колоннами. При-
ем «ниша-арка» был известен с незапамятных
времен в разных культурных традициях, но чаще
в тех, где было принято подчеркивать роскошь
и изысканность. Кроме того, арка считается
Кондратьев (2010: 130).
9 Муратов (2009: 55).